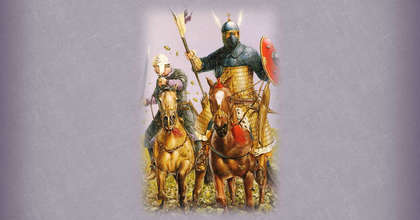
- Информация о материале
- Nurlan SAQAN
- 3044
Для нашей культуры образ «женщины-матери» является системообразующим и очень символично, что наш родной язык имеет статус – «ана тiлi», выполняя уникальную функцию онтологической матрицы национального мышления, аккумулирующей в себе все многообразие богатого духовного мира казахов.
Казахский язык принадлежит к тюркской семье языков, на которых говорят народы и этнические группы, проживающие практически во всех странах Центральной Евразии. Ойкумена тюркского мира включает в себя помимо нашей страны крупнейшие мировые и региональные державы: Россию, Китай, Иран, Турцию. Тюркскими государствами являются также Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, значительную долю тюрко-говорящих граждан имеют: Афганистан, Таджикистан, Монголия и другие страны мира.
Таким образом, помимо исторической принадлежности к исламскому миру, наше государство может также актуализировать в пространстве евразийской геополитике тюркскую идентичность в качестве одного из ключевых факторов регионального влияния. Если среди мусульманских государств центром притяжения выступает Саудовская Аравия, в силу наличия на своей территории духовных святынь ислама и религиозного туризма к ним, то в пространстве тюркской культуры главным законодателем мод и инициатором ключевых идеологических трендов выступает Турция.
Дело в том, что в настоящее время турецкий язык уверенно возглавляет ТОП-10 тюрко-язычных языков мира, поскольку на нем говорит почти 45% всего мирового тюрко-язычного сообщества. В свою очередь на азербайджанском языке говорит около 15%, на узбекском – 14%, на казахском – 7%, на уйгурском – 6%, туркменском – 4%, татарском – 3%, на кыргызском – 2%, по 1% приходится на кашкайский, башкирский и чувашский языки. В итоге, по степени распространённости казахский язык занимает сегодня четвертое место в семье тюркских языков, поэтому наша страна может с полным правом выступать в качестве одного из лидеров тюркского мира.
Богатым историческим и культурным наследием тюркских языков является руническая письменность древнетюркских каганатов, существовавших в Великой степи во второй половине первого тысячелетия нашей эры.
Символично, что первым словом, дешифрованным датским лингвистом Вильгельмом Томсеном стало «тенгри», поскольку тенгрианство сыграло роль духовной первоосновы древнетюркского общества, заложившей базовую систему ценностей и семантические коды всех тюркских народах. Это магическое слово было написано в текстах, высеченных на каменных стелах, прославлявших деяния одних из самых знаковых героев эпохи первых тюркских государств – Куль-тегина, Бильге-кагана и Тоньюкука. В этом году исполняется 1300 лет с момента их прихода к власти во времена Второго тюркского каганата.
Время правления этого легендарного триумвирата было эпохой великих свершений, оставившей заметный отпечаток в мифопоэтическом пространстве всех тюркских народов. Последующий распад Второго тюркского каганата и борьба за его наследство привела к возникновению множества тюркских прото-государств. В этот период происходит одно из самых значительных в мировой истории геополитических столкновений между Танским Китаем и Аббасидским Халифатом, который поддержали в этом противостоянии тюркские государства и племена. В результате грандиозной Таласской битвы, произошедшей недалеко от Тараза в 751 году, была остановлена экспансия конфуцианства и в Великой степи начал постепенно распространяться ислам.
Эти даты могут стать значимым идеологическим маркером, способным затронуть глубинные пласты национального сознания, трансформируя древние архетипы «воинов-номадов» в позитивную энергию созидания и уверенности в своих силах, позволяющую преодолеть инерцию устаревших стереотипов об отсталости евразийской цивилизации тюрко-монгольских народов.
Здесь стоит отметить, что некоторые тюркские этносы достаточно далеко ушли от номадической первоосновы культуры, которая диктовала определенные предпочтения в стиле жизни, музыке, еде, одежде и многих других сферах.
Даже антропологически современные тюркские этносы значительно отличаются друг от друга, например казахи и турки. По многим параметрам, таким например как, потребление конины и кумыса, к казахскому образу жизни и менталитету ближе монголы, чем анатолийские тюрки. Поэтому ключевым фундаментальным фактором единства тюркских этносов является язык и общее семантическое пространство мифов, эпосов и других общетюркских литературных произведений.
Вместе с тем, в качестве современного «камертона тюркской аутентичности» выступает казахский этнос, поскольку помимо владения языком тюркской группы и богатым литературным наследством, является также главным хранителем символического «шанырака номадической цивилизации» Центральной Евразии.
Казахстан также является законным держателем прав на такие геокультурные бренды тюркского мира как Туркестан и Туран, которые позиционируют нашу страну в качестве исторической прародины всех тюрков. Все это дает моральное право претендовать нашему государству на место альтернативного центра тюркского мира, ориентированного в первую очередь на геокультурную консолидацию тюрко-язычных регионов и стран в рамках концепции «евразийского нео-номадизма».
Одним из центральных элементов казахстанской модели тюркской интеграции является современная версия евразийства, свободная от имперских трактовок российских реваншистов наподобие Александра Дугина.
Вместе с тем, становым хребтом современного евразийства является исторический союз тюркского и славянского миров, который очень рельефно и точно описал в своих трудах знаменитый тюрколог Лев Гумилев. В этом аспекте международные позиции Казахстана выглядят наиболее выигрышно в силу многолетней успешной реализации стратегически выверенной политики в этом критически важном для единства нашей страны направлении.
В условиях непростых отношений между Турцией и Россией, возрастает роль Казахстана в качестве действенного медиатора, способного смягчить это контрпродуктивное противостояние.
В силу жестких геополитических противоречий России с Турцией она нуждается в появлении более умеренного полюса притяжения в тюркском мире, который будет выступать новым ориентиром для протюркско-настроенных кругов российского общества, предлагая им своеобразную «заместительную терапию». В этой связи, Казахстан может предложить собственное видение модернизации тюркского культурного наследия, в частности ориентацию на историческую реабилитацию номадизма, концептуальное продвижение в рамках нео-номадики экологического мышления, институциональное усиление тюркской идентичности и современное технологическое обеспечение тюркских языков.
Стоит отметить, что переход казахского языка на латиницу является в первую очередь вопросом технологической модернизации, демонстрирующей вектор либерального развития нашей страны и облегчающей ее полноценную интеграцию в глобальный мир.
Латинский алфавит технологически сблизит его с английским языком – основным инструментом международного общения, сформирует эффективную систему ценностей для рыночной экономики, а также обеспечит прямой доступ ко всем современным знаниям и информации.
В свою очередь, создание предпосылок для интеграции всех тюркских языков на базе единой графики позволит сделать мощный рывок в культурной и информационной консолидации всего тюркского мира. По своему масштабу и влиянию этот мегапроект способен стать драйвером геокультурного развития для всех тюркских стран и укрепления их общей цивилизационной платформы.
В современном постиндустриальном мире язык является главным институциональным механизмом позволяющим модернизировать мышление народа, именно поэтому этот вопрос имеет столь важное значение для нашего государства. Выход из цивилизационного тупика, отказ от морально устаревших моделей поведения и культурных норм, возможен только после глубинной трансформации ментальности народа, влияние на которую может оказать системная реконструкция языковой среды.
В этой связи, важно рассматривать деятельность современных лингвистов в качестве социальной инженерии способной программировать новые ценностные установки, влияющие на траекторию и динамику трансформации социальных институтов в обществе.
Посредством ввода новых понятийных концептов, терминологических оборотов и речевых конструктов происходит эффективная перекодировка социокультурной среды страны, ее перенастройка на новый тип мышления, новый стиль жизни. Это очень мощный инструмент влияния, способный задать вектор развития государства на многие десятилетия вперед.
В этом смысле, необходима определенная корректировка данного направления государственной политики, поскольку в погоне за мнимой чистотой казахского языка, происходит его архаизация и внутреннее разрушение, когда вместо международных признанных терминов вводятся особые казахские термины сомнительной этимологии. При этом, зачастую «пуристы» проводя дерусификацию казахского языка, вводят в него вместо исконных тюркских слов арабизмы, способствуя тем самым усилению исламизации общества. Для модернизации общества вместо арабских и персидских лингвистических анахронизмов, необходимо вводить в оборот современные английские слова и термины.
Подобным же подходом «грешат» и «радетели» возрождения казахского аула, который в своем исконном первозданном виде уже практически не существует, поскольку традиционный казахский аул, основанный на кочевых традициях и быте, давно «канул в лету» в результате жесткой бесчеловечной политики коллективизации и индустриализации советской экономики 30-х годов XX века. Современные казахские аулы – это оседлые поселения, в которых значительная часть жителей является социокультурными маргиналами, не до конца освоившими земледельческую культуру и не воспринявшими ее ценности в полном объеме. Население этих сел уже не традиционные номады, но и еще не классические крестьяне-фермеры.
В итоге, сегодня владение казахским языком становиться ключевым критерием принадлежности к национальной культуре.
Вместе с тем, реальным базовым фундаментом национальной идентичности может стать ценностная система, основанная на модернизированных ценностях номадической цивилизации Центральной Евразии. Именно она способна нивелировать идеологические расхождения двух лингвистических миров – казахоязычных и русскоязычных граждан, интегрировав их мировоззрение в единое целое в рамках концепции «нео-номадизма». Преодоления социокультурного разлома между европеизированными и исламизированными казахами потребует расширение этой концепции уже до «евразийского нео-номадизма».
Стоит также отметить, что для нашего государства важно, чтобы вопросами интеграции тюркского мира занимались не только официальные и около правительственные структуры вроде Совета сотрудничества тюркоязычных государств, пятый саммит которого прошел в ноябре прошлого года в Астане, Международной организации тюркской культуры или Международной тюркской академии, но и неправительственные организации гражданского общества.
В частности, особое внимание стоит уделить ассоциациям учителей и преподавателей тюркских языков, а также творческим союзам тюрко-язычных журналистов и писателей, которые являются главной движущей силой и ключевыми субъектами развития тюрко-язычного мира.
История твориться руками профессионалов, имеющих твердые убеждения и обширные знания.
Успешное развитие Казахстана во многом зависит от их способности претворить в жизнь революционные изменения в языковой среде. Именно представители нового креативного класса способны системно модернизировать мышление народа, сделав казахский язык модным и востребованным не только для самих казахов, но и для представителей всех иных этносов страны и мира.
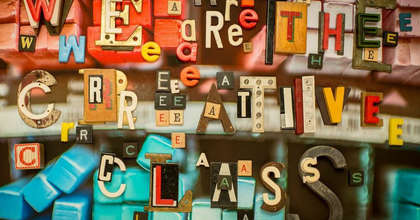
- Информация о материале
- Ануар КАЛИЕВ
- 2378
В настоящее время культурная сфера становится ключевым элементом «экономики символов», в котором добавленная стоимость создается через туризм и социокультурную деятельность, включая дизайн, живопись, музыку, танцы, спорт, выставки, музеи.
В Казахстане за последние годы очень активно устанавливались различные культурно-исторические памятники. Эта деятельность, прежде всего, носила идеологическую нагрузку – заменить символы прежней эпохи новыми, сформировать казахстанскую идентичность.
Данная задача была решена, благодаря активной поддержке государством создания современных памятников и новых форм общественного искусства. Сегодня новые культурно-исторические памятники Казахстана – это символы независимого пути развития страны, ретрансляторы исторической памяти.
В то же время, в современных условиях на первое место выходят другие важные функции памятников – формировать в городах эффективное общественное пространство, создавать уникальные места притяжения для туристов, продвигать бренд регионов.
Однако отечественные памятники к этой задаче еще не готовы. Их изготовление зачастую осуществляется по общим принципам ведения городского хозяйства и во многом выполняется по шаблонным макетам, следуя определенным культурным штампам и стереотипам.
Результатом является большое количество однотипных безликих монументов, лишенных какой-либо индивидуальности и эстетического своеобразия, а иногда просто не отвечающих элементарным канонам художественного вкуса.
Изготовление памятников и малых архитектурных форм порой превращается чиновниками в своеобразный вид нелегального низкопробного бизнеса, ориентированного на освоение средств местных бюджетов и не увязанного с общими задачами развития региона и качественного городского оформления.
Очень часто памятники изготавливаются под какие-либо юбилейные даты, в невероятной спешке, не оставляя времени на полноценное обсуждение эскизов и проведение конкурсов идей. В итоге появляются монументы, имеющие сиюминутную ценность, не рассчитанные на века, не несущие высокой смысловой нагрузки.
Таким образом, при общем количественном росте числа памятников испытывается острый дефицит ярких и самобытных скульптур, которые бы органично вписывались в историю и стилистические особенности конкретного места и региона, отвечали бы его духу и стали подлинными «местами памяти и поклонения».
Производство внезрачных однотипных памятников приводит к тому, что люди перестают обращать на них внимание, происходит девальвация символического капитала. Соответственно сигналы, призванные актуализировать исторический опыт, возродить традиционные ценности и поднять геокультурный статус города, становятся малоэффективными и практически бесполезными.
В этой связи целесообразно кардинально пересмотреть подход к разработке и установке культурно-исторических памятников, в соответствии с современными общемировыми тенденциями.
Сегодня в мире культурно-исторические памятники рассматриваются не просто в качестве занимательного объекта прошлого. Они выступают как серьезный ресурс для повышения имиджевой привлекательности города, территории, страны.
Памятники выполняют образовательную функцию, сообщая информацию о великих событиях или личностях прошлого, сыгравших важную роль в истории, тем самым просвещая людей. Также они играют большую эстетическую и символическую роль.
В использовании памятников заключается огромный потенциал, который способен кардинально преобразить общественное пространство и городскую архитектуру, создать основу для привлечения туристических потоков.
Современные памятники – это не только произведения искусства, но и объекты, генерирующие новую экономическую реальность.
В настоящее время памятники и культурная сфера получают новое практическое значение. Они становятся ключевым элементом «экономики символов», в котором добавленная стоимость создается через туризм и культурную деятельность, включая дизайн, живопись, музыку, танцы, спорт, выставки, музеи.
Индустрия символического капитала в современном мире превзошла все смелые ожидания и продолжает стремительно наращивать обороты. Так, по мнению британской консалтинговой структуры Brand Finance стоимость национального бренда США практически сопоставима с уровнем ВВП этой страны и составляет более 15 триллионов. Здесь стоит отметить, что корпоративный бренд Apple оценивается в 170 миллиардов долларов – это практически сопоставимо со стоимостью национального бренда Казахстана.
Наряду с развитием страновых и корпоративных брендов, сегодня активно идет процесс символической капитализации городов. Новая концепция городской культуры меняет стратегию мегаполисов перед лицом растущей глобальной и региональной конкуренции. В этом контексте роль памятников, архитектуры малых форм и ландшафтного дизайна чрезвычайно важна и требует смелых нетривиальных решений.
Во многих городах мира успешно развиваются специально выделенные места, которые отводятся для размещения различных скульптур и инсталляций. Это одновременно дает возможность для реализации частной инициативы и творческого потенциала, а также в значительной степени украшает облик городов. При минимальных затратах со стороны государства такие проекты могут принести очень значимый эффект для имиджа и экономики страны.
Во многих мегаполисах мира огромную популярность получили скульптурные парки, которые совмещают функции общественных парков и музеев под открытым небом. Здесь проводятся различные мастер-классы и специальные курсы – живописи, скульптуры, музыки, ремесленничества, а также всевозможные выставки, концерты, конкурсы, соревнования. Фактически, они являются эпицентрами социальной и культурной активности городов.
Помимо этого, для современной городской скульптуры во многих городах выделяются пространства в промышленных зонах, на территории заброшенных предприятий. Парки скульптур и инновационные арт-объекты, создаваемые в промышленных зонах и на окраинах, решают две задачи. С одной стороны, предоставляют место для творческого самовыражения, проявления талантов. С другой стороны, изменяют облик заброшенных районов, превращая их в культурные центры, развивая местную инфраструктуру, создавая новые культовые места.
Вместе с тем главным результатом системной рекультивации городского пространства является стимулирование и взращивание духа креативности – создание особой ауры и атмосферы творчества в современном мегаполисе.
Сегодня это основополагающая задача для формирования конкурентоспособного города. При этом движущей силой реальных социокультурных перемен всегда выступают представители «креативного класса» – гражданские активисты, лидеры общественного мнения, продюсеры, меценаты, деятели культуры и искусства, известные ученые и журналисты, звезды шоу-бизнеса и многие другие.
В данном контексте в казахстанских городах должна быть инициирована масштабная программа по привлечению творческой общественности к мобилизации культурного потенциала регионов и его полноценной реализации. Во многих городах включая столицу, имеются значительные ресурсы для системной оптимизации и повышения эффективности использования социокультурной инфраструктуры, которая в своем большинстве принадлежит государственным учреждениям, не проявляющим должной активности в этом направлении.
Так, только в Астане построены и функционирует на бюджетные деньги более десятка суперсовременных объектов в сфере культуры и досуга, которые не загружены в полной мере и фактически простаивают.
Основная причина подобного положения дел ориентированность данных организаций исключительно на бюджетное финансирование, неудовлетворительный уровень менеджмента и маркетинга, слабое партнерство с частными инвесторами и неправительственными структурами. Кроме этого, между ними нет проектной кооперации, неразвита практика проведения совместных масштабных мероприятий, способных генерировать значительное расширение спроса у населения на услуги в области культуры и досуга.
К сожалению, в управленческой модели казахстанских городов все еще господствует командно-административная доминанта, которая отводит предприятиям социокультурной сферы второстепенную малозначительную роль и не рассматривает их в качестве единого рыночно-ориентированного кластера, способного стать локомотивом экономического роста.
Для преодоления этой управленческой инерции и кардинального перепрограммирования ситуации, сегодня важно последовательно стимулировать частную инициативу и активно вовлекать граждан в социокультурную сферу.
В частности в процесс проектирования, создания и развития парков, скверов, площадей, скульптурных композиций, памятников и других арт-объектов мегаполиса. Подобный подход позволит устранить отчужденность населения, предотвратит вандализм и варварское отношение к общественному пространству и культурному наследию городов.
В целом, устойчивым можно назвать только инклюзивный рост, когда каждый гражданин-горожанин в той или иной мере вовлечен в совместное созидание культурных ценностей, воспринимая мегаполис и его достопримечательности как собственный проект развития.

- Информация о материале
- Зиябек КАБУЛЬДИНОВ
- 3134
Каждый регион славен своими выдающимися представителями, сыгравшими заметную роль в его политической, социально-экономической и духовной жизни. Для Павлодарского Прииртышья таких личностей – целое «созвездие»: Шоң би, Муса Шорманов, Машхур-Жусип Копейулы, Каныш Сатпаев, Григорий Потанин, Султанмахмут Торайгыров, Темиргали Нурекенев, Ермухан Бекмаханов… Но особняком стоит имя одного из выдающихся людей XVIII столетия, чингизида, влиятельного казахского султана Султанбета. Ровесник, соратник и двоюродный брат хана Абылая. Участник многих сражений с внешними врагами. Один из главных претендентов на ханский престол после кончины великого хана Абылая. И самое главное: ему принадлежит величайшая заслуга в возвращении народу исконно казахских земель на правобережье Иртыша.
Страна Великой степи всегда была полна выдающимися личностями. Одним из видных государственных деятелей Казахского ханства в XVIII веке был Султанбет, правивший многочисленными родами в районе Среднего Прииртышья. Славное имя этого султана встречается в многочисленных российских и китайских документах дипломатического характера, а также в исследованиях чиновников и офицеров, служивших на Иртышской линии военных укреплений.
Так, не оставил без внимания его и известный исследователь края применительно ко второй половине XVIII века, слывший его близким другом, капитан И.Г. Андреев в своей знаменитой книге «Описание Средней Орды киргиз-кайсаков». По долгу службы начальники Сибирской линии И.И. Крафт, К.Л. Фрауендорф, И.И. Веймарн, И.И. Шпрингер, И.А. Деколонг, А.Д. Скалон, Н.Г. Огарев и другие были также знакомы с Султанбетом и вели с ним активную дипломатическую переписку.
Прииртышский властелин был крупнейшим государственным деятелем той непростой эпохи, отстаивая передовые рубежи Казахского ханства от колониальной экспансии ряда государств, а также воинственных кочевников – джунгар и волжских калмыков.
Султанбет (полное имя Султанмухаммед, в российских архивных источниках известен как Салтамамет, Султан Мамет, Султанмамет - авт.) - правитель Среднего Прииртышья, потомок казахских ханов и султанов, родился в 1710 году на юге Казахстана. Его родственники жили в Туркестане, столице Казахского ханства. Он приходился сыном – cултану Джангиру, внуком – султану Абылаю и правнуком – хану Джангиру.
Благодаря покровительству хана Абулмамета, который приходился зятем Султанбета, он был избран султаном кипчакского улуса в Прииртышье, поскольку функции политико-административного и социально-экономического регулирования на уровне верховной власти в казахском социуме выполняли самые ближайшие родственники хана. Абулмамет определял их правителями в различные родоплеменные подразделения, что способствовало преодолению возможного регионального сепаратизма кочевых общин в условиях огромных степных просторов.
К слову: во время правления хана Абулмамета политическую элиту из чингизидов составляли его близкие родственники: султан Абылай (Абулмансур) и его сын султан Уали, султан Султанбет и его сын султан Урус, султан Барак и его сын султан Даир, сын Абулмамета султан Абулфеис и многие другие.
Султанбет был известен и как искусный дипломат, принявший деятельное участие во многочисленных переговорных процессах с Российской империей, Китаем и Джунгарским ханством.
Так, 27 августа 1742 года он приезжает в Орскую крепость к начальнику Оренбургской комиссии И. Неплюеву за содействием в освобождении султана Абылая (двоюродного брата Султанбета - авт.) из джунгарского плена, и в этой связи 28 августа в Орске «принимает» российское подданство. В донесении И. Неплюева Коллегии иностранных дел от 27 сентября 1742 г. подчеркивалось: «В бытность мою при Орской крепости из обоих ее императорского величества подданных киргис-кайсацких орд приезжали ко мне … Средней орды Салтанбет-салтан (свои улусы имеюсчей)». Как видим, уже в это время он был авторитетным правителем казахов северо-восточной части Казахского ханства.
Как умелый дипломат Султанбет с самой превосходной стороны зарекомендовал себя в китайско-казахских территориальных спорах по отстаиванию исконно казахских земель в бассейне реки Или, оказавшихся свободным после уничтожения Джунгарского ханства Китайской империей. Последняя сторона на правах «главного победителя» никак не хотела возвращать эти территории его прежним хозяевам.
Чтобы сохранить часть общеказахской территории Султанбет, несмотря на свой высокий по тем временам ранг, добровольно становится аманатом (заложником – авт.) Китайской империи!
Об этом свидетельствуют выдержки из книги известного востоковеда К.Ш. Хафизовой «Китайская дипломатия в Центральной Азии (XIV-XIX вв.)»: «В 1763 г. Аблай направил в Китай в аманаты отца своей старшей жены казаха из рода найман Кинз-батыра с родственниками, хан Среднего жуза Абулмамбет – своего тестя султана Султанмамета, что позволило ему занять кочевья в Илийской долине».
Вернувшись в Прииртышье и вновь возглавив свой улус, Султанбет всецело посвятил себя защите интересов Казахского ханства. Здесь он встретил не только спокойную старость, но и активно добивался возвращения казахов на традиционные правобережные прииртышские земли. Так, 6 марта 1755 года был издан указ императрицы Елизаветы Петровны из Коллегии иностранных дел бригадиру Крафту «о недопущении перекочевки киргиз-кайсаков на правую сторону Иртыша, а также о необходимости впредь требовать ему указаний на этот счет от Оренбургского губернатора Неплюева», где видны тщетные попытки Султанбета перейти на правый берег Иртыша.
Его просьбы иногда переходили на прямые угрозы, когда он оставался «неуслышанным» крепостными начальниками и региональными властями: «Но и после того таковые ж на здешную сторону Иртыша табунов перегоны, и при оных киргис-касацкие перелазы не умаляются. И согнать оных никак не возможно, ибо расположилось их по всей Иртышской линии весьма великое число. Да и еще, сверх того, много из-за реки Иртыша киргис-касак со скотом идет на здешную ж сторону (на правобережье Иртыша -авт.)… А Аблай-солтанов родной брат (двоюродный –авт.) Солтан Маметь угрожал: ежели их табуны и впредь будут сгонять, то они из крепости людей никого не выпустят, и сена все огнем пожгут, и воды из Иртыша не дадут».
Вот еще одно из многочисленных подобных писем султанов Абылая и Султанбета командующему сибирским корпусом от 1760 года, в котором они также изъявляли желание попасть на правый берег Иртыша, пусть даже на временной основе: «При том покорно просим, как зима наступит, чтоб пожаловать на сию к российской стороне с нашей за реку Иртыш дозволение дать зимовать… И у нас между собою гораздо будет соседство и дружелюбие. А состоящие по Иртышской линии в крепостях и фарпостах командиры нас на вашу сторону не допускают зимовать, и мы на их случаем гневаемся».
В последующие годы попыток переходов было немало. Казахи стали использовать другие пути проникновения на «жилую сторону»: например, через строительство… частных домов на правом берегу Иртыша или на левобережье в зоне «десятиверстной полосы».
Именно таким образом они пытались зацепиться на земле своих предков, постепенно отходивших в пользу Российской империи. К примеру, в рапорте генерал-майора А. Скалона в Государственную коллегию иностранных дел от 16 апреля 1776 года есть такие строки: «А сверх того, он же, Абылай (хан - авт.), и Салтамамет салтаны просили ж меня, первой – о переноске его преждняго на другое место за малоимением при нынешнем дров и для мелкаго ево скота кормов, а последней – по старости ево лет, для спокойнаго по зимам житья – домов. Вследствие чего из оных сему последнему и определено построить Ямышевский дистанцыи на самом линейном тракте от форпоста Коряковского в первых у половиннаго маяка, где он ежегодное свое кочевье с давних лет по зимам имеет».
Таким образом, по просьбе Султанбета в 1776 году на правобережье Иртыша в 8 верстах от Коряковского форпоста был построен деревянный дом. Подобные «просьбы» казахских властелинов на тайном дипломатическом языке означали их тщетные попытки отстоять и «вторично» заселиться на исконных землях бассейна реки Иртыш, особенно после разгрома китайцами Джунгарского государства.
Кстати, позднее, еще при жизни Султанбета, во многом благодаря его усилиям, а также «домоганиям» его многочисленных отпрысков, степнякам удалось добиться «вечной кочевки» на правобережье Иртыша: российскими правителями были изданы указы о переселении казахов на «внутреннюю сторону» в 1788 и 1798 годах на так называемую «вечную кочевку».
А в 1808 году это было еще раз подтверждено и для других левобережных общин для временного кочевания уже … в зимнее время, но «со взятием аманатов и обязательством не приближаться к населенным пунктам и горным заводам, причем – без оружия». Позднее, точнее в 1854 году, из переселившихся правобережных казахов, управляемых уже внуками и правнуками Султанбета, был создан обширный Семипалатинский внутренний округ, растянувшийся от Омской до Усть-Каменогорской крепости. В 1868 году этот округ был расформирован и вошел в состав Павлодарского, Семипалатинского и Усть-Каменогорского уездов Семипалатинсной области…
Российский исследователь Х. Барданес, участник научной экспедиции под руководством И.Г. Фалька, в 1771 году посетил владения Султанбета в среднем Прииртышье и оставил о нем самые теплые воспоминания, подробно описывая его быт: «26 июля (1771 г. – авт.) сего числа пополудни поехал я в стан Султана, или князя Мамета, старшины Малого улуса Средней Киргизской Орды и удостоен был благосклонным приемом. Его стан, или деревня (аул) состоял из 8 войлочных юрт, или кибиток, из коих три для его фамилии белые войлочные и чище, прочие же были простые для его служителей и пастухов … против входа позади котла разостлан был персидский ковер с подушкою, на котором сидел султан с супругою, сложа ноги накрест …Султан имел от роду 60 лет, был сухощав с небольшою черною бородою; на нем было шелковое платье и шитый золотом колпак. Он имел вид проницательный … он расспрашивал о здравии монархини».
Султан был известен и как воин, и как предводитель ополчения этого региона, принимая самое деятельное участие во многих значимых для государства военных походах.
Так, об участии Султанбета в разгроме волжских калмыков, которые прошлись с низовьев Волги в сторону Джунгарии в 1771 году («Пыльный поход»), свидетельствуют записи из журнала подпоручика атамана Волошанина, опубликованные в «Уральских войсковых ведомостях»: «Султаны Абулфеис, Салтамамет и другие батыры и султаны Средней Орды, проведав, что…партия торгоутов (волжских калмыков – авт.), худоконная и в большинстве пешая, идет на Аягуз, собрались преследовать. Они нанесли сильный урон калмыкам: 5 тысяч взято в плен, 5 тысяч погибли от оружия и 5 тысяч умерли с голода и жажды, так что весь путь около Балхаша усеян (был) трупами людей и скота». Кстати, нашему герою уже было более 60 лет, но он все еще был на седле!
С влиятельным региональным властелином считался даже сам общеказахский хан Абылай, о чем поведал комендант Петропавловской крепости генерал-майор Станиславский в своем рапорте, адресованном И.А. Деколонгу от 16 ноября 1772 года: «Аблай-султан (Российская империя никак не признавала его общеказахским ханом - авт.) недавно из своего улуса уехал на реку Иртыш к Салтамаметь-султану для совета». Думаем, что это не была одна только встреча близких родственников. Здесь обсуждались вопросы войны и мира, вынесения смертных приговоров и обеспечения территориальной целостности государства.
Нередко Султанбет приезжал и в Коряковскую крепость по разным делам: часто по вопросам урегулирования конфликтных ситуаций из-за отгонов лошадей и пленения людей. Так, в марте 1775 года он прибыл в крепость для освобождения двух своих подданных, при этом дав…личное поручительство и обязательство от имени своих сыновей: «Порукою остаются Султамаметь-султан з детьми своими, содержащихся под караулом двух киргисцов выпустить, резолюции». Для правителей той эпохи каждый подданный был на счету, под серьезной опекой и вниманием.
В памяти потомков он остался и как человек, который активно начинал сенокошение, чего в степи практически ранее не было, для чего он еще 24 июля 1776 года настоятельно просил командира Сибирского корпуса А.Д. Скалона прислать ему умелых косцов с косами: «Прошу, как ныне наступило сенокосное время, прислать ко мне для той поставки сена и с Коряковскаго фарпоста людей десять человек с косами, к коим присовокупя я и своих работных людей, которые вместе ту поставку и производить будут».
Султанбет был и сторонником обучения своих детей мусульманской грамоте, для чего 15 января 1778 года просил у региональных властей ученых мулл из числа грамотных башкир: «Просил же я вашего превосходительства о присылке ко мне муллы, башкирскаго старшины Аблея племянника».
После смерти хана Абылая в 1781 году на курултае казахской знати султану Султанбету в числе четырех кандидатур была предложена ханская власть над всеми тремя жузами, однако он от принятия ханского достоинства отказался, сославшись на свой преклонный возраст.
По нашим данным в это время ему было уже за 70 лет. Этот факт лишний раз свидетельствует не только о влиятельности и авторитете этого степного властелина, но и о его высокой порядочности, приверженности степной демократии…
Именитый султан умер в конце XVIII века, когда ему было за 80. Существуют две версии о том, где похоронен Султанбет: либо его останки находятся в Туркестане возле мавзолея Ходжи Ахмета Яссави, либо его могила – в Павлодарской области. До сих пор поиски места захоронения Султанбета в Прииртышье остаются безуспешными.
Особый след в истории края оставили и его многочисленные потомки. По многочисленным архивным, письменным и фольклорным источникам у Султанбета было 17 сыновей, многие из которых продолжили славное дело своего отца. Как известно, Султанбет управлял подвластными казахами через своих батыров и многочисленных сыновей. За каждым из его сыновей была закреплена строго определенная казахская волость: Урус султан управлял басентиновской волостью, Иман султан – курлеуткипчакской, Тортан – жарымбеткипчакской, Укибай – кызылгакслетинской, Ботагоз – кулатайкипчакской, Матай – актилеской, Култай – сагалкипчакской, Кулшык – жолабакипчакской, Караш – кулатайкипчакской и т.д.
Старший сын Султанбета Урус принимал участие в церемонии возведения на престол Екатерины II в Санкт-Петербурге, где из руки новоиспеченной императрицы он получил золотую медаль. В 1759-1764 годах был руководителем дипломатической миссии Казахского ханства в Пекине, активно занимаясь урегулированием казахско-китайских приграничных проблем. А вместе со своим отцом, ханами Абылаем и Нуралы, в 1771 году отличился как храбрый батыр в сражениях с волжскими торгоутами у озера Балхаш, на берегу реки Мойынты.
Из других сыновей Султанбета не менее известен султан Шаншар (1758-1819), который управлял айтей-басентинской волостью в Прииртышье. В 1802 году российским правительством ему была дарована земля, находящаяся между селами Ямышевским и Подстепным. Борьба за отстаивание традиционных пастбищ на правобережье Иртыша продолжалась до начала XIX века его потомками: они удерживались на правой стороне реки и в такой интересной форме: «… повелением начальства Сибирской линии при реке Иртыш между форпостами Семиярским и Кривым были построены мечеть и дом».
О построенной по просьбе султана Шаншара мечети пишет лидер правительства Алаш Орда Алихан Букейхан, видевший ее лично в марте 1908 года, проезжая по дороге из Семипалатинска в Павлодар: «По дороге из Семипалатинска в Кереку я увидел на высоком берегу Иртыша древнюю мечеть, построенную в честь этого известного султана и названного его именем. Шаншар-султан, который скончался в 1819 году и перед смертью повелел похоронить его на западном берегу Иртыша. Этот мазар, хотя и порядком разрушен временем, все же имеет свою привлекательность. Место его захоронения до сих пор в народе зовется «Шаншар-тамы».
Как пишет известный советский историк Н.Г. Аполлова, внук Султанбета султан Татен в начале XIX века, находясь в урочище Ключи, первым начал заниматься хлебопашеством.
Правнук Султанбета Бопы Татенулы принимал участие в церемонии инагурации Александра I в Санкт-Петербурге. Правнук Султанбета Ханкожа Татен улы в середине XIX века был главою казахов правобережья Иртыша, выбирался старшим султаном Баян-Аульского внешнего и старшим султаном Кокпектинского округов. Праправнук Султанбета Арынгазы Ханкожаулы известен как пропагандист декоративно-прикладного искусства казахского народа: в 1867 году на выставке при Московском университете были показаны его богато украшенные юрты.
После введения в Российской империи административных реформ 1867-1868 годов практически все чингизиды были отстранены от власти. А советская власть открыто занялась преследованием чингизидов, в результате чего некоторые умерли от голода, репрессированы или сосланы за пределы округа (Алхан Кенеулы, Иса Кенеулы, Бастеми Арынгазыулы, Марден Алханулы и др.). Вышившие потомки Султанбета геройски сражались на полях битв во время II мировой войны, многие из которых не вернулись с полей брани. В настоящее время потомков Султанбета, вернувшихся с войны, уже нет в живых. Но память о них осталась.
К примеру, потомок султана Мажит Бураханулы, вырос сиротой. Воспитывался в детском доме в Экибастузе. Окончил Военную академию связи. В звании полковника дошел до Берлина. Умер в России и похоронен в 1974 году в Москве на кладбище в Бабушкино. Другой потомок Султанбета Боранбай Катмаганбетулы до войны работал председателем колхоза в Качирском районе Павлодарской области. С войны вернулся в 1946 году. В 1957 году за достигнутые успехи в труде был награжден орденом Ленина. Сейтахмет Магауияулы на фронте был политруком. За мужество и героизм был награжден именным наганом. Был тяжело ранен, вернулся в отчий дом с ампутированной ногой…
Как выдающийся государственный деятель Казахского ханства Султанбет навсегда останется в истории. Он – участник исторических событий, произошедших в XVIII веке, поэтому его имя можно встретить в современных учебниках и учебных пособиях по истории Казахстана.
В настоящее время изучение жизнедеятельности славного султана является актуальной темой для многих исследователей. Мы затронули лишь некоторые «штрихи» из жизни и деятельности султана Султанбета и думается, что его имя станет известным для более широкого круга читателей. Его именем мы должны назвать улицы многих городов Казахстана. В честь славного султана в преддверии проведения «ЭКСПО-2017» можно восстановить его дом, чертежи которого нашел в Омском областном архиве энтузиаст-краевед В.Сирик.
Исследованием о Султанбете занимается также и Т.Смагулов, руководитель Центра археолого-этнологических исследований Павлодарского государственного педагогического института, который собирается заняться археологическими раскопками в местности, где находился дом Султанбета. Обязательно должна появиться книга, повествующая о его жизни и деятельности. Может настанет тот день, когда мы восстановим мечеть Шаншара?
Мы убеждены, что выйдут многотомные хрестоматии архивных материалов о султане. Зная историю жизнедеятельности государственного деятеля Казахского ханства султана Султанбета, мы больше узнаем об истории родного государства, а ее необходимо знать всем, ведь без истории нет народа и историей можно гордиться.
